фото политика Спартак Премьер-лига Россия болельщики интервью
Большое интервью фотографа Евгения Фельдмана.
Евгений Фельдман снимает войну, предвыборные кампании, митинги и футбол. Сезон-2016/17 он провел рядом с любимой командой, которая в мае впервые за 16 лет добралась до чемпионства и вдохновила фотографа на альбом «Спартак». Золото».

«Я хочу запомнить этот сезон навсегда. А еще я умею хорошо делать фотоальбомы», — написал Евгений в блоге на Sports.ru и показал несколько разворотов будущей книги, которую можно заказать через краудфандинг-платформу.
Наш разговор — о «Спартаке», командировках в Америку и на Донбасс, Алексее Навальном и русских протестах.
— В какой момент ты решил сделать фотоальбом?
— Неосознанное желание сделать что-то про «Спартак» было у меня всегда, просто это не складывалось в историю. Где-то с марта я понимал, что все идет к первому месту, пересматривал предыдущие фотографии, выстраивал единую стилистику и снимал на всех оставшихся матчах. Буквально через десять минут после «Зенит» — «Терек» я поехал к стадиону, оказался там раньше всех и снял Глушакова во второй приезд: уже не с самогоном, но и до того, как появились журналисты. После этого у меня вышла фотоистория на «Медузе», но еще позже я был в Перми, потом снимал матч с «Тереком», и там получилось много хорошего. Поскольку я фрилансер и у меня нет очевидного места, где все это публиковать, я даже не стал предлагать это изданиям, а задумался о книжке. Предыдущая — про выборы в США — вышла у меня в марте, и все процессы были отстроены хорошо.
— Когда ты начал фотографировать и снимать футбол?
— Еще до того, как стал считать себя журналистом. Моя первая журналистская съемка — второй приговор Ходорковскому в Хамовническом суде, когда я только договорился с «Новой Газетой», между нами еще не было юридических отношений. Газету я искал для того, чтобы аккредитоваться на спорт и концерты. В тот день ввели план «крепость», перегородили улицу, досматривали документы на пешеходном мосту через реку, но я спокойно прошел в суд, потом в зал заседаний, снимал три из четырех дней процесса и делал все это по сезонной аккредитации Sports.ru на КХЛ. На ней было написано: Sports.ru, КХЛ, Евгений Фельдман. Показал ее приставу на дурака, и меня пустили.
— Как у тебя появилась эта аккредитация?
— У меня был блог на Трибуне, и меня выручил человек, отвечающий за помощь блогерам с аккредитациями. Так я ходил на хоккей; на футбольный «Спартак» — по абонементу, а матчи «Локомотива» снимал по аккредитации от фанатского сайта Локомотив.инфо. Потом я начал работать в «Новой Газете» и снимал по аккредитациям любой спорт, который мог застать в Москве (хоккейные «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Атлант» и даже волейбол), потому что это хорошо учит фотографа быстро реагировать. Моя первая фотография, выпущенная в бумажной газете, была с матча Лиги Европы «Спартак» — «Аякс». У голландцев был очень толстый запасной вратарь, над ним много шутили в российском интернете, и газете почему-то понадобились его фотографии.
— Почти весь сезон 2016/17 ты провел рядом с командой. Что изменилось в этом «Спартаке»?
— Главное эмоциональное впечатление – от матча с «Оренбургом», когда пропустили два в конце и последние десять минут пытались затолкать гол. Было удивительное ощущение: наверное, забьем; и даже если не забьем, все будет хорошо. Оно концентрированно появилось тогда, но было гораздо шире. В отношении футбола и любимой команды я очень суеверный человек (у меня есть майка, которую я надеваю в день матча), но свою историю из фотографий я начал спокойно собирать в марте после домашнего матча с «Анжи»: когда победили и поняли, что после зимнего перерыва все не как обычно, а хорошо. Это ощущение, что сглазить не получится, — не про развитие команды, а про эмоции вокруг. Для меня оно было самым удивительным.

Фото: Евгений Фельдман
— Как фотограф ты был гораздо ближе к игрокам. Вблизи тебя никто из них не разочаровал?
— Момент отсутствия границы был лучше всего виден перед матчем в Перми на скамейке запасных, потому что играл наполовину запасной состав. То ли там все так устроено, то ли клуб не мешал, но «Матч ТВ» интервьюировал кого-то из игроков за 20 секунд до игры, а я снял Карреру с позиции, куда обычно не пускают фотографов: от поля, когда он давал советы выходившему на замену Тигиеву. Было легкое фестивальное ощущение, футболисты подпевали трибунам «Чемпионы, чемпионы», народ выскочил на поле и немного затоптал Куинси. Он сам кого-то уронил, начал поднимать этого человека и всех аккуратно расталкивать. Нормальное человеческое поведение. Так что никаких удивлений по ходу сезона у меня не было, ведь я никогда не относился к футболистам как к небожителям. Я болею за «Спартак», а не за «Зенит». Игроки моей команды никогда не вели себя, как сейчас Дзюба.
— Как в твоей жизни появился «Спартак»?
— За «Спартак» болел мой дедушка. Он умер, когда мне было три года, и мама рассказывала, как мы с ним вместе смотрели футбол. Это была семейная штука, хотя мой папа из Житомира и болел за киевское «Динамо» – по этому поводу мы довольно много ругались. На футбол родители отвели меня первый раз в 2000 году: это был матч с «Локомотивом» в «Лужниках», когда Тихонов не забил пенальти на 90-й минуте. В 98-м мы ходили на концерт Жан Мишель Жарра в МГУ – так вот на том футболе было сравнимое ощущение шумной толпы. Есть фанатская переделка песни «Ничего на свете лучше нету» — я хорошо помню ее, народ в загончиках, текущий к стадиону, и пенальти Тихонова. Больше ничего. Мне тогда было 9 лет.
— Самые сильные эмоции, полученные от «Спартака»?
— Утром я сдавал экзамен по биологии на психфаке МГУ, а через несколько часов «Спартак» проиграл ЦСКА 5:1. Уже третий год у меня был абонемент на центральный сектор фанатской трибуны, и я тогда написал экзамен намного лучше, чем сыграл «Спартак». Это было чудовищное впечатление. «Фратрия» отдала команду всем уходить, я не считал, что это правильно, и остался до самого конца. Еще хуже было предыдущее дерби с голом Янчика в конце: остро, обидно и несправедливо. И наоборот — знаменитый гол Баженова в гостевом дерби того же сезона, что и 5:1. Почему-то я не смог купить нормальный билет и сидел на Б11 или Б12, в самом углу, на максимально далеком секторе от Баженова. Но там был совершеннейший взрыв, полыхающая трибуна и спокойное ощущение, что теперь все. До сезона 2016/17 это были самые сильные впечатления.

— Тебе удобно быть одновременно болельщиком и фотографом?
— Мне всегда казалось, что некоторое мое преимущество и не только в отношении спорта в том, что я всегда переживаю за то, что снимаю. Это не всегда означает, что я болельщик: например, снимая политику, я абсолютно нейтрален. Конечно, если на моих глазах творится несправедливость: до кого-то докапываются на блокпосту или у твоих коллег под обстрелом ломается машина, — в такие моменты я влезаю. Тем не менее в ситуациях, когда нет серьезной угрозы, у меня развился навык отсекать эмоции. В футболе не так: боление, которое мешает снимать, помогает глубже погружаться в историю. Ведь моя книжка про «Спартак», а эта история для меня более эмоциональная. Даже если никто не захочет ее купить и я не смогу ее напечатать тиражом, все равно найду деньги для дизайнера и сделаю себе единственный экземпляр. Мне хочется запомнить это состояние не по книге Рабинера, а с чем-то более близким моему восприятию.
— Как ты работал после 90-й минуты матча «Спартак» — «Терек»?
— Это было на удивление просто: либо я точно понимал, что хочу снять, либо сработали какие-то физические навыки. В момент финального свистка я оказался прямо у скамейки «Спартака», снял нескольких игроков и болельщиков, бегущих ко мне. После этого я затерялся в толпе, а ее неприятное свойство в том, что ты как сельдь в бочке и не можешь ничего заснять. В какой-то момент я увидел Самедова и пролез к нему, но это были 30 минут, за которые я сделал 15 кадров. При этом края той толпы не было видно, и мне казалось, что она не может никуда отойти, потому что поле забито целиком. Был неприятный момент с точки зрения безопасности: я очень много раз находился в большой толпе, и эта была одной из самых опасных. Момент вручения не был таким эмоциональным пиком, как день чемпионства или выезд в Пермь: я много работал, успел выбежать и снять салют у стадиона, вернулся обратно и сфотографировал, как молодая пара болельщиков целуется, лежа на газоне.

Фото: Евгений Фельдман
— Когда-нибудь фанаты хотели разбить тебе камеру?
— На дерби в апреле меня кто-то узнал на фанатской трибуне ЦСКА и начал свистеть: мясное чмо или что-то такое. Просто пришлось уйти к угловому флажку. А те, кто стоят в первых рядах на матчах «Спартака», всегда просят их снять и начинают позировать. Я это очень не люблю, потому что позирование ужасно нелепо. В таких случаях стараюсь отвернуться и потом незаметно снять. Если я не вижу ничего интересного и просто хочу снять трибуну, то навожу камеру и жду несколько секунд, чтобы человек мог отвернуться или закрыться. В городе делаю все то же самое. Когда меня вежливо просят не снимать, я не снимаю, а если начинают орать и грозить полицией – снимаю даже назло: отойду, незаметно вернусь и сделаю кадр.
— Тебе комфортно на фанатской трибуне «Спартака»?
— У меня странные политические взгляды: я минархист – это одно из либертарианских течений, которое говорит, что должно быть минимум государства. Я точно не являюсь правым в том смысле, в котором это понимают на трибуне, и вообще. При этом я не левый, а по разным вопросам гражданских прав исповедую разные, иногда чуть противоречивые позиции. Поскольку на трибуне политики нет или почти нет, мне на ней комфортно, да и люди там никак не отличаются от случайной выборки в троллейбусе: не правее и не левее, не умнее и точно не глупее. Много раз слышал, как там обсуждали реструктуризацию РАО ЕЭС или какие-то сложные внешнеполитические вопросы. Да, мне кажется странным заряжать «Русские вперед» в адрес Куинси Промеса, я этого не делаю, но никто ни разу не реагировал плохо на то, что я не поддерживаю какие-то заряды. Когда я начинал ходить, было больше имперских флагов и штук, которые мне кажутся неуместными, но сейчас всего этого стало меньше. На трибуне «Спартака» должны быть такие люди, как я, мои левые или правые друзья. Мы же не на митинге, а все вместе поддерживаем «Спартак».
— Последний момент, когда тебе было страшно?
— В чемпионской толпе было страшно, но я хорошо понимал, что она ограничена пределами стадиона, и я выберусь из нее скорее, чем из давки на улице. Все мои истории про риск связаны с войной и обстрелами. В Дебальцево шли последние бои перед тем, как замкнулся котел, и в какой-то день объявили перемирие, чтобы люди смогли выехать. Естественно, когда мы туда заезжали, обе стороны начали фигачить из «Градов», «Ураганов» и прочей артиллерии, а на главной площади прямо рядом с нами ложились выстрелы из гаубиц. Вместе с другими фотографами мы двинули в соседние дома с подвалами, где люди пересиживали обстрелы, и нас оттуда стали выталкивать. В одном тебе говорят: «У тебя русский паспорт, уходи отсюда». А на улице реально стреляют. Идешь в соседний подъезд: «Ты приехал со стороны украинцев, мы тебя не впустим». Ты пытаешься объяснить, что ты нейтральный журналист, неделю назад был в Донецке, а тебя не слушают и физически выталкивают под обстрел. Понятно, что все эти милые бабушки в нормальной жизни обзывают соседку наркоманкой и переживают за детей, чтобы те не попали под машину. Но люди чувствуют свою бессилие и поэтому так себя ведут. Как солдаты на блокпостах в тылу считают, что они супергерои; а поскольку они ни в чем не участвуют, им хочется это как-то компенсировать, и при виде журналистов они начинают передергивать затворы и делать разные «руки за голову». Эти истории про человеческую психологию пугают больше, чем моменты непосредственной опасности.

Дебальцево. Фото: Евгений Фельдман
— Главное знание, которые ты увез с той войны?
— Не совсем знание, а ощущение собственной смертности и ее близости. И еще, когда ты смотришь по телевизору про Ирак и Афганистан, тебе кажется, что война складывается в какой-то нарратив, и в рамках этого нарратива есть люди, которые все это начали, и они неправы. Появляется ощущение, что одной из сторон возможно иметь моральную правоту в процессе войны. Когда ты смотришь на это изнутри, такое ощущение теряется. Ты понимаешь, что не может быть правых и виноватых. В состоянии, до которого доходят мирные люди, выталкивающие журналистов и соседей из подвалов, виноваты и те, и другие.
— А что тебя удивило?
— На Донбассе был смешанный фронт: ты садился на такси, ехал на передовую и выходил возле аэропорта. Там были парадоксальные вещи, когда ты живешь в единственной оставшейся гостинице с бассейном, рестораном, музыкой, а за окном летают мины. Эта грань — самое сюрреалистическое ощущение. И не было точки, когда вдруг это стало войной. Для меня все начиналось зимой, когда я поехал на Майдан. Там на площади стояли студенты и жгли в кострах дрова; потом был первый штурм администрации президента, гранаты, и я уже ехал покупать противогаз и каску. Внезапно ты возвращаешься в январе, начинается уличная война: баррикады, шины, резиновые пули, первые смерти. Потом Крым — БТРы. Я ездил на границу в Херсонскую область и, в отличие от софт-режима полуострова, где солдаты были без магазинов, увидел минные поля, минометы, снайперов в лежках и так далее. Дальше я был в Одессе — ходил по сожженному Дому профсоюзов, а там следы от рук на стенах. В любой момент бросить эту историю означало быть нечестным к своему читателю. Нельзя рассказать про Майдан без Крыма и Донбасса. Нельзя рассказать про май в Донецке, когда еще не очень страшно, и не показать август с летающими за окном минами. Эскалация происходила плавно, поэтому не было такой точки, в которой бы ты понимал: жопа.

Донецк. Фото: Евгений Фельдман
— На Украине футбольные ультрас принимали большое участие в Майдане. Какой процент людей, приходящих на стадионы в России, готов выйти на митинг?
— Любые прогнозы бессмысленны, потому что есть историческое поле. Например, падение Берлинской стены в 89-м году: его никто не мог ожидать еще за две недели, даже за 12 часов. Есть куча макрофакторов и персональных факторов в Венгрии, Польше, Чехословакии и ГДР, а еще есть куча рандомных событий. Историческое поле притягивает все детали разного уровня и масштаба, и сейчас я вижу его в России. Если открыть любую книжку про 1968-й год в Париже, первое, что там будет, это профессора и учителя, которые рассказывают, какие плохие анархисты и почему студентам и школьникам нельзя в этом участвовать. Что сделали школьники и студенты? Все наоборот.
Что мы видим в России? Казалось бы, вся историческая наука говорит, что контрпродуктивно объяснять студентам, что они должны быть пассивными. Особенно в стране, где они исключительно пассивны по любым мировым меркам. Сложно вспомнить крупные страны, где бы студенчество не было бы ни в какой мере представлено или не требовало бы какого-то представительства или автономии. Когда мы видим администраторов ВУЗов, клип Алисы Вокс и презрительные репортажи, что на площади опять вылезли студенты, каждое из этих действий является контрпродуктивным в отношении людей, которые эти действия совершают.

Фото: Евгений Фельдман
— Были митинги, на которые ты ходил не как журналист, а как участник?
— До того, как я стал заниматься журналистикой, я дважды ходил на «Стратегию-31» в 2010 году, потому что в мае были жесткие омоновские действия, а я поддерживаю свободу собраний. Последняя политическая кампания, в которой я участвовал, — осенью 2013 года активисты «Гринпис» высадились на платформу Приразломная, где теперь «Зенит» снимает рекламу. Их было 30 человек, и среди них — два журналиста: британский видеооператор Кирон Брайен и российский фотограф Денис Синяков. Они документировали реальность, но их вместе со всеми посадили в СИЗО Мурманска, а потом этапировали в «Кресты». Вместе с другими коллегами мы координировали большую компанию в защиту Дениса и Кирона, у нас даже был пикет у здания Следственного комитета. Больше всего я горжусь нашей системой почты. Письма в СИЗО идут очень долго, но мы нашли человека в Мурманске, который распечатывал электронные письма, и они за день доходили до ребят. Таким образом мы передали где-то 200 писем.

— Сколько раз ты был в автозаке?
— В России меня задерживали 6 раз. 4 раза в первый год, когда я работал журналистом на митингах, а потом я нашел нужную интонацию в разговорах с полицией. С тех пор меня задерживали дважды. Сначала — когда повязали мою жену в ярко-желтой жилетке с надписью «пресса», я схватился за нее, нас вместе затащили в автозак и сразу же отпустили. А 12 июня впервые за последние пять лет повязали меня и тоже ненадолго, минут на пять. Там было очень смешно. Стояли какие-то омоновцы, мы начали с ними ругаться: «Отойди отсюда» — «Не отойду, я снимаю, работаю, как и вы». Они внезапно меня схватили, начали выкручивать руки, отвели в автозак и закрыли за мной дверь. А я понимаю, что нахожусь не с зарешеченной части, где сидят задержанные, а в предбаннике. Там полицейская записывает имена. Я просто не сообразил, что могу нажать кнопку и выйти. Другие полицейские из другого взвода туда приводили задержанных, я каждый раз высовывался и говорил: «Выпустите меня, я журналист». На третий раз они позвали старшего, меня выпустили.
— Что за интонация в разговоре с полицейскими, которой ты научился?
— Говорю жестко, но чувствую момент, когда надо остановиться. Бывает, что ты идешь с камерой мимо цепи полицейских, и один из них просто так ставит тебе подножку. В детстве я много играл в футбол, поэтому в таких случаях умею убирать ноги. Но это очень обидная ситуация: у тебя дорогая техника, которую ты купил за свой счет, а тут кто-то на ровном месте тебе мешает и рискует твоим здоровьем. В таких случаях я подскакиваю и начинаю наезжать, что не надо так делать; прошу позвать старшего. Но важно чувствовать грань, за которой стоит остановиться.
— Какие русские полицейские: выполняют приказы или на самом деле думают, что все делают правильно?
— Думаю, половина на половину. Вот Навальный всегда рассказывает, что те, кто его конвоирует, говорят, что совсем не за Кремль. Я такие истории слышал и от правых, и от левых. Может быть, речь даже шла про одних и тех же полицейских. Представители моей профессии полиции не нравятся нигде: меня пытались задержать в Нью-Йорке, я ругался с полицией в Париже, Москве, Киеве и Донецке. В целом и как выпускник психфака я понимаю, что есть системные психологические механизмы, которые действуют более-менее у всех людей, наделенных властью. Понятно, что степень общественного контроля влияет на них, но по количеству историй в Штатах мы видим, что люди с дубинкой и пистолетом не всегда чувствуют берега.
— Самая показательная история про полицейских?
— Во время выборов в США я много работал в Айове — это очень важный штат, там начинаются праймериз, туда съезжаются все журналисты. На этой стадии кампании всем кандидатам дают охрану секретной службы, которая защищает президента, и у этих парней невероятный баланс собственной силы и расслабленности. Были ребята, которых я видел на пяти разных митингах по всему штату, и уже в конце они начали со мной здороваться и дружественно себя вести. Секретная служба очень четкая, тебе никогда не придет в голову им сопротивляться, но с другой стороны они безумно вежливые, аккуратные и чувствуют себя частью сообщества.

— А в России?
— Позапрошлым летом в селе Черный Яр Астраханской области суд заблокировал страницу Википедии про распространение одного наркотического вещества, и я хотел сделать историю про их обычную жизнь. Село не самое плохое и не самое хорошее, работы нет, молодежи тоже нет, зато есть газ и одна из лучших на юге России секций авиамоделирования. Это родное село Надежды Кадышевой; 8000 человек, между прочим. В какой-то день после долгих согласований я поехал с местной полицией в патруль. Это нормальные полицейские «от земли», а одна из их функций — следить, как устроена жизнь у тех, кто освободился или находится под условным сроком. Вот мы едем по улицам в обычном «бобике»: два полицейских, собака и я. Но я понимаю, что мы ездим по одним и тем же улицам, третий, четвертый, пятый круг. Полицейские мне отвечают: «Мы можем проехать только по асфальтированным улицам, а туда, где нет асфальта, мы даже не суемся». Эта история очень про Русь.
— Когда ты первый раз увидел Навального?
— В Химкинском лесу стоял палаточный лагерь, там устраивали лекции, концерты, чтения и дебаты разных оппозиционных чуваков. Это было первое появление Навального после паузы, в которой он сделал расследования про нефтяные вышки, ВТБ и прочее. Он вызвал безумный ажиотаж, и за ним хвостиком, как за Бонифацием, ходили сотни людей, которые хотели его о чем-то спросить или сфотографировать. Он тогда впервые оказался на публике оппозиционной звездой. Я там был как журналист, снимал, но ближе мы с ним познакомились в поездах Москва — Киров и Киров — Москва, когда его первый раз судили в 2013 году. В этих вагонах-ресторанах по вечерам он планировал мэрскую кампанию в Москве, а в перерывах мы много говорили за жизнь. «Новая Газета», в отличие от условных «РИА Новостей», Навального снимает часто, и, естественно, я оказывался вокруг. Постепенно и познакомились.
— Сейчас ты его личный фотограф?
— Не совсем. У нас есть проект, в рамках которого я постоянно снимаю его поездки и предвыборную кампанию. Но есть критически важный для меня нюанс: ни у него, ни у кампании нет контроля за тем, что я снимаю и публикую в свободном режиме. При этом они оплачивают мои расходы, платят небольшой гонорар и могут использовать мои фото в листовках, газетах, блогах и так далее. Я бы на таких же условиях согласился снимать и Путина, и Жириновского. Путина, наверное, даже без гонораров и покрытия расходов, потому что в России в принципе не принято делать политику открытой для публики. А проект с Навальным должен показать, как выглядит нетипичная для России политика 24/7.
— Как вы начали сотрудничать?
— Все срослось спонтанно, как и любая симбиотическая штука. Они меня попросили поснимать открытие штаба в Питере, мы летели в самолете, в экономе, я начал расспрашивать, всегда ли Навальный летает так. Мне почему-то казалось, что он адвокат, у него большое количество дел и неплохой заработок, поэтому чаще летает бизнесом. И если не бизнесом, то почему бы это не показывать? Мне ответили: «Мы показываем, только нам не очень верят». Я говорю: давайте сделаем проект, где я буду показывать и эконом, и, например, не самую идеальную физическую форму, которую все политики стараются скрывать, из-за чего вам не верят и в других частях. Доверие рождается, когда показываешь невыгодную сторону. Такой подход родился в Америке при Линдоне Джонсоне, когда фотографы снимали операцию по удалению камней из почек президента. Сейчас это дошло до пика с Питом Соузой — фотографом Барака Обамы. После его избрания решили, что Соуза будет фотографом с бОльшим доступом, чем это было принято у президентских фотографов раньше. Он жил в Белом доме, и отсюда эти иронические фотографии с Обамой, где он стоит рядом с кроликом и у них торчат уши; бегает с псом по Белому дому, или с детьми в Овальном кабинете. При этом за Соузой был контроль, и его фоторедактор рассказывал мне, что 5-10% фотографий они по разным причинам не ставили.
— Проект «Это Навальный» не противоречит журналистской этике?
— Проект с Навальным открывается манифестом, где я и Навальный пишем, что я независим. Сначала многие журналисты меня критиковали за это. Мы вообще находимся в стране, где с журналистикой большие проблемы, и Sports.ru на фоне конфликта с «Матч ТВ» точно про это знает. Фактически у нас есть закон: Мамут может издавать Ленту.ру, но не должен влезать в редакционную политику. На практике мы видим, что нет больше никакой Ленты.ру. Закон о СМИ, где арбитром выступает государство, должен регулировать грань между издателем и изданием. Наш манифест мне представляется таким же законом о СМИ и публичной офертой. Просто его регулятором является не государство, которое никак не работает с законом о СМИ в России, а репутация Навального, давшего слово, что не будет влезать. Мы уже полгода этим занимаемся, и пока не было случая, чтобы мне запрещали что-то снимать. Поэтому все видели, как он ест гамбургеры в Перми.
— На фотографиях, например, видно, что вы летаете «Аэрофлотом». У тебя не возникает вопросов, откуда у кампании Навального стабильное финансирование? Он рассказывал, откуда деньги у ФБК, но ведь кампания — это больше и затратнее?
— Не везде, это было по началу и в места, куда летает только «Аэрофлот». Но у нас также были рейсы между Братском и Иркутском на жуткой авиакомпании с самым старым авиапарком в мире. Однако я не замечал следов, что есть какие-то дополнительные хитрые источники денег. Когда Навального облили зеленкой в Барнауле, я видел телефон Леонида Волкова, на который приходили уведомления с платежами с той же скоростью, что и лайки на знаменитом видео про инстаграм Деми Де Зеува. Это выглядело похоже. ФБК действительно лучше всех в стране умеет работать с такими деньгами, их работа строится именно на рекуррентах — людях, которые ежемесячно платят какую-то сумму. И это работает.

Фото: Евгений Фельдман
Прошлый год я освещал президентские кампании в США. У меня не было доступа к кандидатам, поэтому я работал со стороны избирателей: ходил на митинги в толпу, а не на платформу для журналистов, и перед каждой поездкой подписывался на все таргетированные рассылки. Например, на Берни Сандерса в Новом Орлеане. И я видел, с какой нацеленностью это работает при несравнимо больших бюджетах. Тот же Сандерс собрал 100 млн долларов за год кампании разовыми пожертвованиями и даже не стал кандидатом от своей партии. Кампания Хилари выпустила проездной нью-йоркского метро с надписью «женская карта», и за день их продали на 5 млн долларов. Из Москвы сложно оценить масштаб, да и в принципе к такой механике еще не очень привыкли. Вот я езжу с Навальным по открытиям штабов, туда приходит тысяча человек, и каждый десятый или пятнадцатый поднимает руку, когда спрашивают, кто финансово помогает кампании. Средний чек — 600-800 рублей, из этого все и складывается. В этом смысле я совершенно верю.
— Как на Алексея Навального реагируют люди?
— Есть закон о разбитых стеклах: если у тебя в городе грязно, там будут мусорить еще сильнее, а если ты убрался, то перестанут. Здесь то же самое. Бывает, что Навального не узнает никто, а там, где подошел первый человек, выстраивается очередь. В Екатеринбурге он вместе с женой пошел на экскурсию в Ельцин-центр, и там по этому поводу случился дикий ступор. Например, Обама во время предвыборной кампании перестал летать обычными рейсами, потому что в аэропорту вокруг него образовывался человеческий шар, и он не мог попадать на самолеты. В Екатеринбурге было не так, но сравнимо, потому что весь музей пошел фотографироваться с Навальным. Хотя удивительным образом там были самые обычные екатеринбуржцы, а не какие-то профессора местных университетов и интеллигенция. Людей, которые реагируют негативно, особо нет, потому что те, кому не интересно, не узнают его в лицо.
— Сколько раз вы обсуждали с Навальным футбол?
— Очень много раз. Алексей болеет за «Спартак», но очень условно. Он не любит футбол, а «Спартак» поддерживает как самый московский клуб. Весной почти все выездные матчи попадали не просто на поездки, а на открытие штабов. Мы открыли штаб в Казани, и в это время «Спартак» играл с «Краснодаром»; я сидел в задней комнате и слишком громко заорал после гола Фернандо. Это было очень неловко, и Навальный пытался меня в шутку пилить, что я не снимаю, а занимаюсь фигней. Всегда были некоторые точки напряжения, потому что ему не очень понятен концепт просмотра игры, но ближе к концу сезона Алексей ощутил масштаб переживаний болельщиков «Спартака», ведь я не единственный, кто смотрел футбол в тех комнатках.
— А были вопросы: кто такой Глушаков и почему он похороны?
— Как раз после интервью Дудя с вопросом про Карреру Алексей стал спрашивать про тренера, Глушакова и все такое. Но обычно это вопросы про то, зачем вы смотрите футбол. Однажды мы жили в Уфе в одной гостинице с «Локомотивом», когда они играли с «Крыльями» (из-за состояния поля «Крылья» должны были перенесли матч из Самары в Уфу – Sports.ru), и вместе с Юрием Семиным и некоторыми футболистами смотрели матч ЦСКА — «Зенит». Алексей тогда уже ушел, но наверняка прошел бы мимо Семина, потому что они вряд ли друг друга знают.
— Ты много ездил с Навальным. Какой он в жизни?
— Как любой нормальный человек он сочетает в себе какие-то разные черты и позиции. Он очень едкий, ехидный, с хорошим чувством юмора и с немного не тонким восприятием чувства меры в рамках своих подколов. С апреля, когда запустили проект и некоторые журналисты начали меня критиковать за неэтичность, каждый раз, когда мы общались, Навальный называл меня продавшимся. Мы не друзья, а хорошие знакомые. Я видел Алексея в эмоционально сложных ситуациях: когда сажали в тюрьму его брата или обыскивали его квартиру. Для меня важно держаться с ним на равных с точки зрения возможности работать так, как я хочу. Среди тех, кто ездит, я и еще два человека из восьми говорят с Навальным на ты. Это для меня не инструмент, а способ быть на равных.

Фото: Евгений Фельдман
— Тебе не кажется, что Навальный подставил людей на двух последних митингах? Особенно 12 июня, когда люди попали в не самый санкционированный замес с реконструкторами.
— Есть один вопрос, по которому мы с Алексеем категорически не согласны, и я как журналист имею внутреннее право быть не нейтральным. Это право журналистов на работу. Мы лично много спорили на эту тему, он довольно скептически относится к современной российской журналистике. Проблема, которая есть с 12 июня, в том, что Навальный не сумел объяснить свою позицию. Во многом потому, что предпочитал это делать на своих ресурсах типа YouTube, а не в сложных конфликтных интервью с теми, кто ему противостоит или пытается задавать неудобные вопросы. Я находился внутри процесса переноса митинга и хорошо понимаю его логику: они исходили из того, что за ним идут сознательные люди, способные принимать свои собственные решения. Чем больше я вижу этих людей, тем больше мне кажется, что это действительно так, что уровень политической грамотности у них достаточно высокий, чтобы нести ответственность за свои поступки. Но Навальный должен был более открыто и в менее комфортных обстоятельствах объяснять свою логику и те риски, на которые шли люди.
При этом мне кажется, что перенос митинга 12 июня на Тверскую был не очень верным с точки зрения тех, кто пришел на несчастный праздник реконструкторов и не был готов к таким толпам. Я могу понять ответ Навального, что в столкновениях виноват ОМОН. Наверное, любой другой ответ будет виктимблеймингом. Здесь можно было найти какое-нибудь среднее решение: например, перенос в место, где был бы такой же ОМОН и не было бы реконструкторов. Но «стена» между мной и Навальным работает в обе стороны: они не комментируют мою работу, я — их.
— У полиции такая логика: вы пришли на Тверскую, испортили праздник, нарушили закон.
— Мне, Европейскому суду по правам человека и Конституционному суду кажется, что главный критерий работы полиции – это поддержание общественной безопасности. Человек с плакатом не несет ей никакой угрозы. Сайт Sports.ru, Rutracker, Telegram тоже не несут. Регуляций должно быть минимум, особенно если обратной стороной этой регуляции является создание опасности для прохожих, которые вообще ни при чем. И уж тем более когда вяжут всех, в том числе и этих прохожих. Мы находимся в России — а я видел митинги в Турции, Франции, Америке, Украине и много где еще — и мы прекрасно понимаем, что наши митинги – самые мирные на свете. У нас никто не отбивает задержанных, не штурмует отделения полиции, не переворачивает автозаки. Практически никакие публичные выступления с 1993 года не несли общественной опасности.
— Все свои поездки ты проворачиваешь в режиме фрилансера. Что это такое?
— Фриланс — это естественный и неизбежный выбор, потому что в России не так много изданий, с которыми мне хотелось бы работать. Только пять-шесть для фотографа, потому что я не могу сотрудничать с радиостанциями и телеканалами. «Медуза», GQ, Republiс — издания такого типа. Это не газета «Голос Яблока», не «Грани.ру» и не «Московский Комсомолец». Для «Медузы» я в январе летал в Орск, где мы с пишущим журналистом делали историю про эпидемию ВИЧ. Такие истории в российских СМИ не очень принято освещать, поэтому я горжусь тем, что работаю с «Медузой». Еще фриланс – это возможность делать свои проекты. Сейчас все подвисло из-за книжки про «Спартак» и Навального, но я могу внезапно сделать какие-то спорадические штуки. Швейцарский журнал заказал мне историю про то, как в Москве сталкиваются разные эпохи: например, советские памятники, перенесенные в Музеон. Они дали мне абсолютную свободу, и я снимал на Тульской знаменитый дом-пароход — достаточно уродливый, построенный в стиле брутализм, где раньше жили сотрудники атомной промышленности.

Новый Орлеан. Фото: Евгений Фельдман
— Насколько крутая штука краудфандинг?
— Есть несколько сотен или, может быть, тысяч, которым интересны мои фотографии. Люди, кого я с гордостью могу назвать своей аудиторией. Благодаря им я могу издавать книжки, которые не смог бы издать обычным образом в силу разных причин. Наверное, для книги про «Спартак» можно было бы найти издателя. Книжка про Америку очень нишевая, это большой фотоальбом, и я не уверен, что его получилось бы издать с той степенью творческой свободы, которая была у меня и моего дизайнера. Книжку про Майдан, Крым и Донбасс я издавал осенью 2014 года на фоне абсолютной уверенности, что ее никак не издать обычным образом. Никто бы не решился тогда этим заниматься, а если бы и решились, то начали бы влезать к нам в творческий процесс, например, избавляясь от слов «сепаратисты», которое является словарным с точки зрения русского языка. Краудфандинг — возможность оставаться посередине и при этом делать эти проекты. У меня были фотографии из Украины, которые одновременно использовали твиттер Евромайдана и паблик Стрелкова.
— Тяжело ли быть непьющим журналистом?
— Рабочих проблем у меня с этим никогда не было, скорее наоборот, но был идиотский случай в Костромской области. Я хотел делать историю про долговые книжки в продуктовых магазинах и случайно вышел на парня, который знал владельцев магазина. Нам надо было от чего-то отталкиваться, я приехал в его маленький город, он повез меня куда-то бухать, при этом ехал на своем Мерсе по встречке, а потом сказал, что довезет меня до Москвы за два часа со скоростью 300. Там был ужасный двор с покосившимся сараем посреди города, хотя Костромская область очень многоуровневая в плане архитектуры. Там мне пришлось очень сильно отмазываться.
Но сложнее с журналистами, потому что они пьют очень много. Ты сидишь в Краматорске, а утром ехать в Дебальцево: 15 журналистов бухают вусмерть, все сгоняют стресс, а ты сидишь, тебе жутковато, ты никогда не был в таких жестких местах, и все это очень странно.
— Главный кайф в твоей профессии?
— Момент, когда готов сигнальный экземпляр книги, ты приходишь в типографию и держишь его в руках. Это высочайшее ощущение успеха, гармонии и профессионального достоинства. Не испытывал ничего круче, хотя мои фотографии выходили в New York Times. Это круто, но не так, как с книгой.
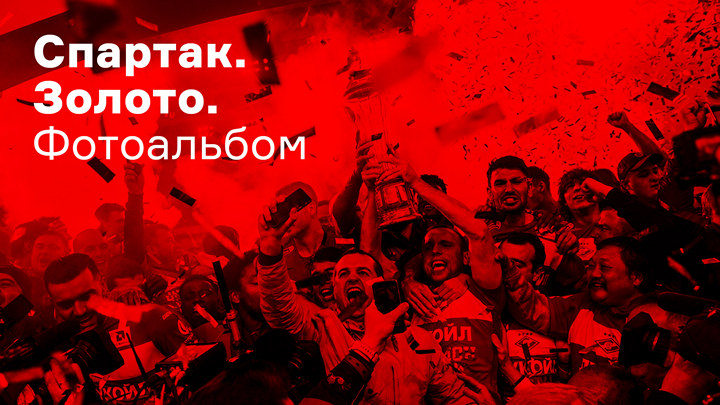
— В каком состоянии сейчас альбом про «Спартак»?
— Верстка готова где-то на 60%, и местами это вау. В Америке я снял где-то 12-13 тысяч фотографий за все время, две тысячи были в отборе, и 150-200 вошли в книжку. Когда съемку из 700 кадров ты собираешь в репортаж из 20, там рождается гармония. Когда из 15 выбираешь два на разворот книги, и они ложатся так, что приобретают дополнительный вес, это фантастическое ощущение. Американскую книжку мы верстали год, много переделывали, притирались с дизайнером, и мне немного жаль, что фотоальбом про «Спартак» складывается очень быстро. Процесс, когда ты мучаешься над каким-то разворотом, а потом на него все ложится, сравним с моментом, когда держишь книгу в руках.
— Что ты ждешь от сезона-2017/18? И не только футбольного.
— Не расстроюсь, если у меня появится возможность работать в Кремле. Также жду победу в чемпионате и хотя бы плей-офф Лиги чемпионов. При этом сила майского ощущения от чемпионства, которая породила книжку, меня немного разгрузила, и к еврокубкам, и к чемпионству я буду относиться спокойнее. Мне совсем не все равно, но теперь в этом будет больше фана, чем бесконечного гола Янчика перед глазами.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов (3); Максим Поляков (8); Gettyimages.ru/Justin Sullivan (9)
Источник: